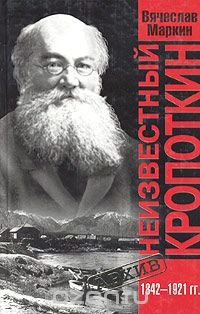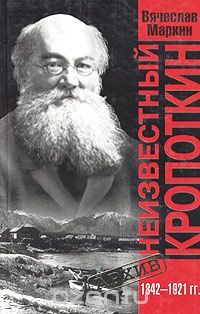— У меня все записано. Кто когда поступил, в каком состоянии и по какой причине, сколько воды из Леты употребил и куда направлен. Так когда с ней это произошло, говорите?
Подняла списки. Нашла. Отпустила.
— Только не оглядывайся, — сказала Орфею, — Она сейчас не такая, какой ты бы хотел ее видеть, Потом, наверху разберетесь,
Персефона смотрела на удаляющиеся силуэты и знала, что ничего из этой затеи не выйдет, Орфей обернется, никуда он не денется, Обернется и увидит дым, И закричит, Эвридика испугается и вернется назад,
Сглотнув, Персефона протянула руку к руке мужа, Чтобы он не стал дымом, Чтобы он был вечно, как должно быть у богов, Его пальцы, Она знала его — со всеми его комплексами бога, которому не положено жертвоприношений, со всеми его мелкими болячками и смешной обидчивостью, замаскированной под величие, Она знала его лодыжки, его шрамы, его плечи, которые становились ей домом, Она не боялась смотреть ему в глаза — ну что особенного в смерти и небытии, с нами такого не будет, ведь мы боги, Но только бы он был, Только бы они не были разлучены, как Орфей и его жена,
Аид посмотрел на жену удивленно — чужая любовь и чужой эрос его не трогали, Он считал смертных зародышами теней,
Персефона знала, что для Деметры четыре месяца, которые дочь проводит в подземном царстве с мужем, — недоразумение, короткая отсрочка, во время которой богиня плодородия страдает и бездельничает, и ждет возвращения дочери, Деметра думает, что и Персефона проживает свое настоящее время с ней, но она ошибается, Две трети года, которые Персефона должна проводить с матерью, для нее самой — отсрочка, недоразумение, Настоящая жизнь ее там, внизу, с супругом,
Деметра одинока, У нее украли дочь, Персефоне жалко мать с ее колосками и зернышками — давно ненужными людям, которые и так все держат под контролем или думают, что держат, Разве что кроме смерти, Деметра еще менее могущественна, чем Аид, Но Персефоне нужно возвращаться домой, она не может остаться с матерью.
Зернышко граната в сердце — оно останется там навсегда, и Персефона всегда будет возвращаться к Аиду, и первые минуты после ее возвращения им снова захочется стоять рядом — прижавшись друг к другу, не шевелясь, как в первый раз — первые вечности после возвращения, с терпким и сладким вкусом граната во рту.
Гранатовое зернышко прорастает сквозь землю, к поверхности, и вырастают деревья, и покрываются цветами, но опадают лепестки, и набухают на месте цветов — плоды, такие плотные что шершавая кожица еле сдерживает сок, такие темные, что смертные не могут отвести взгляд и обречены пробовать, даже зная, что корни дерева — в царстве мертвых.
Каринэ Арутюнова
Я в Лиссабоне. Не одна
Судьба
Вообще-то он любил блондинок. С их ломкой несоразмерностью, акварельной анемичностью, прозрачностью запястий. «Примавэра, Боттичелли», — бормотал он и пощелкивал суховатыми пальцами, провожая их размытым астигматизмом оком, — любил блондинок, но получалось с брюнетками, неумеренными в плотском, остро-пахучими, назойливо заботливыми, — странная закономерность втягивала в водоворот утомительных страстей: брюнетки попадались с плотно сбитыми икрами, обильным прошлым, — с истрепанной бахромой ресниц, бездонной влагой глаз, — их усталые груди легко укладывались в подставленные ладони, а бедра мерцали жемчужным, — они жаждали и добивались — постоянства, подтверждения, закрепления. Тогда как блондинки оставались фантомом, ускользающей мечтой окольцованного селезня, ароматной вмятинкой на холостяцкой подушке, мятным привкусом губ, русалочьей подвижностью членов…
Женился неожиданно для всех — на кургузой женщине с темными губами, — плечистой и широкобедрой, — южнорусских смешанных кровей, — ничто не предвещало, но вот поди ж ты, — все совпало: его птичья безалаберность, ее домовитость и властность, его язва и ее борщи, его запущенная берлога и ее маниакальная страсть к порядку.
Его голова, похожая на облетевший одуванчик, его помутневший хрусталик, в котором еще множились танцующие нимфетки в плиссированных юбочках. Ее широкий, почти мужской шаг. Отсутствие рефлексий. Умение столбить, обживаться, осваивать пространство, наполнять его запахами, напевным говорком. Отсекать лишнее. Оставляя за собой беспрекословное право. Многозначительной паузы и последнего слова.
Жажда
«Ай, какие цыпочки, — мужчина усердно мял ее грудь, точно сдобу в булочной, — короткими сильными пальцами, — в зеркале пузатого комода из-под полуопущенных век на нее поглядывала разрумянившаяся томная проказница, будто сошедшая с полотен Рейнольдса — со сверкающими виноградинами глаз и живописным беспорядком в одежде. — Ах!» — Мужские руки нетерпеливо путались в пуговках. «Странно, — подумала она, — когда он успел раздеться?» — композиция в зеркале была до смешного отрезвляющей. Если бы не его настойчивость! — но уже тянуло низ живота, — знакомое ощущение жажды стягивало гортань. «Еще, еще», — бормотала она, — ничего, что у него тяжелая выдвинутая челюсть и неопрятно-жирный клок волос на лбу, будто склеенный чем-то липким, — какое значение имеет его плотный низко посаженный зад на кривоватых ногах, когда чуткие руки и губы исследуют каждый уголок ее вмиг увлажнившегося тела. «Ммм», — промычал он, вгрызаясь в нежное основание шеи, раздвигая пряди волос на затылке, — грудь наливалась и нестерпимо ныла, кусая от нетерпения губы, она замерла — долгожданное тепло разливалось толчками, — в полумраке его лоб блестел. «Ыыыыы, — застонал он и еще сильней задвигал губами, пораженный открытием. — Ну что ты, маленькая? хочешь?» — Она утвердительно кивнула и, плавно опустившись на колени, уткнулась лицом ему в живот — пахнуло несвежим бельем и немытым телом.
Готовая к этому, она все же резко отшатнулась.
— Что, не нравится? — Мужчина настороженно рассмеялся и сдавил пальцами ее затылок.
— Жаль, что вы — не еврей, — холодея от ужаса, тихо произнесла она.
— Не еврей? Ты спятила, что ли?
— Понимаете, — она торопливо проглотила слюну, — при обрезании удаляется крайняя плоть, — это всего лишь полоска кожи, — там скапливается грязь, смазка, — и от этого…
— Что? — Мужчина замолчал, видимо, не зная, как реагировать на неслыханную наглость, — затем резко поднял ее с колен. — Нет, скажи, ты больная? Ты хоть понимаешь, что несешь? — Не еврей. — В голосе его промелькнуло явное огорчение, досада уступила место растерянности. — Ты зачем сюда лезла? — Зачем притащилась? — Чего увязалась за мной? — Он смачно выругался, по инерции продолжая некоторые манипуляции левой рукой. — Так славно все началось: мышка попалась чистенькая, ароматная — на студенточку похожа или училку младших классов, — легко согласилась, будто давно ждала этого, и решительно пошла рядом, — уже поднимаясь по лестнице на второй этаж, позволила мять и трогать себя везде — все упругое, первосортное, так и просится в руку, — все складывалось как нельзя лучше. В последний раз он был с сорокалетней разведенкой — плоскогрудой неинтересной женщиной, — корыстной и лживой. «Вот дрянь, дрянь — нет, это она нарочно кайф обломала!» — прилив злобы придал ему сил. — Он покосился на белеющую в темноте грудь и скомандовал — «Ладно, — спиной развернись, — я хочу кончить!»
Долго возилась с замком, чертыхаясь и охая, подталкивая коленкой дверь. Зажимая ладонью промежность, вихрем понеслась в уборную. Из комнаты, шаркая тапками, вышел муж:
— Ты где ходишь так поздно? — Чай будешь? Я поставлю. — Он нашарил рукой очки и прислушался к шуму льющейся воды из ванной комнаты.
— Нет — от чая молоко прибывает, — глухо ответила она. — Стоя перед умывальником, смотрела на белесую струйку молока, стекающую на живот, — из роддома она вернулась месяц назад, с перевязанной грудью и пустыми руками. А молоко все прибывало.
Цвет увядающей сливы
Эта, в окне, ночи не спит. Бродит призраком по унылой двушке, вдувает кальян истрепанным ртом, караулит либидо. Зябнет, но упорно голым плечом выныривает из блеклой вискозы в угасающих розах, — бывшая боттичеллиевская весна в кирпичном румянце на узких скулах, с узкими же лодыжками и запястьями, с канделябром ключиц цвета слоновой кости — сама себе светильник и огниво, — прикуривает, жадно припадая, — рассыпаясь костяшками позвонков не утратившей лебединого шеи. Бывшая балерина, светясь аквамариновым оком, кутается в невесомое, ждет. Любви, оваций, случайного путника, — изнуренного ночными поллюциями Вертера с прорывающим пленку горла кадыком либо стареющего бонвивана — жуира с сосисочными пальцами и подпрыгивающим добродушно животом. На лестнице она вдыхает в меня прогорклым, кошачье-блудливым, туберозами и пыльным тюлем, — жабья лапка хватает, тянет за рукав, умоляя морщиной рта, нарисованной старательно перед подслеповатым зеркалом — о, зеркала стареющих примадонн, покрытые слоем патины и грез! — Кокетливо взбивая застывшие прядки, она улыбается себе, пятнадцатилетней, плачущей от любви, детской любви, mon amour, с пунцовой розой в волосах, с молитвенно спаянными ладонями — сама себе поцелуй и сама себе любовник, — она жадно целует свой рот, прижимаясь пылающей щекой к собственному отражению. Уличный зазывала театра Кабуки, переодевающийся за ширмой в мгновение ока, предстающий то умирающим от любви юношей самурайского рода, то нежной сироткой с озябшими коленками. В кимоно цвета увядающей сливы.
![Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113008/113008.jpg)